Снимок этот сделан известным фотографом Михаилом Пановым в Москве 9 июня 1880 году - на следующий день после знаменитой речи Федора Достоевского о Пушкине.Этот фотопортрет писателя многие считают лучшим - фотограф сумел поймать одновременно задумчивое и умиротворенное выражение лица Федора Михайловича. Художник Иван Крамской, хорошо знавший и писателя, и фотографа, так оценил этот снимок: «Фотографии редко дают сумму всего, что лицо человеческое в себе заключает: в снимке Панова явилось счастливое и редкое исключение».
А многие исследователи до сих пор пытаются разгадать секрет успеха той Пушкинской речи Достоевского: в чем была причина столь сильного воздействие ее на слушателей, собравшихся 8 июня 1880 года в Обществе любителей российской словесности? За всю историю русского красноречия, пожалуй, не было такого потрясающего единодушия весьма разнородной аудитории (в зале московского Благородного собрания сошелся тогда чуть не весь цвет российской интеллигенции), причем не от слова проповедника или вождя, а от негромко сказанного («не надседаясь» – заметил очевидец) слова писателя.
То, что Иван Аксаков объявил речь историческим событием, еще не удивительно: он все же человек близкого Достоевскому мировоззрения. Удивляет умиление Тургенева, восторг Анненкова… Они, его противники, жмут ему руки, обнимают, целуют «в плечо». Глеб Успенский, человек совсем, кажется, враждебной партии, и тот не устоял. «С этой поры наступает братство и не будет недоумений», – воскликнул Аксаков. Впрочем, выступившие слезы быстро высохли и о минуте идейного единения все быстро позабыли.
Возможно, успех Пушкинской речи Федора Михайловича в том, что он ставил в ней правильные вопросы:
"А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастии? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим?"

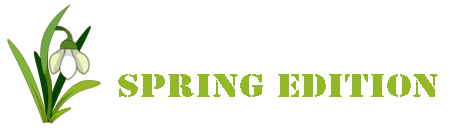



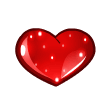

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием