Константин ЛЕВИН (1924-1984)
НАС ХОРОНИЛА АРТИЛЛЕРИЯ (1946)
Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерия,
Теперь клялась, что нас любила.
Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.
Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере – брому.
А те из нас, что были мертвыми, –
Земле, и никому другому.
Тут всё еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там – уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...
И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и вощат паркеты.
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.
И там, по мановенью Файеров,
Взлетают стаи Лепешинских,
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках.
Бойцы лежат. Им льет регалии
Монетный двор порой ночною.
Но пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною!
Но тех, кто получил полсажени,
Кого отпели суховеи,
Не надо путать с персонажами
Ремарка и Хемингуэя.
Один из них, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он по бульвару брел как выпивший
И средь живых прошел как эхо.
Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею.
Сквозь эти мелкие нелепости
Он приближался к Мавзолею.
Он вспомнил холмики размытые,
Куски фанеры по дорогам,
Глаза солдат, навек открытые,
Спокойным светятся упреком.
На них пилоты с неба рушатся,
Костями в тучах застревают...
Но не оскудевает мужество,
Как небо не устаревает.
И знал солдат – равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.
***********************************
ПИЛОТЫ
До нитки капюшоны их промокли.
И суп остыл, и отсырел табак.
Они глядят сквозь черные бинокли
И папиросы комкают в зубах.
Они пройдут к темнеющим машинам,
В кабинах стиснут зубы и рули.
И вскоре гул покажется мышиным
Притихшим наблюдателям с земли.
Они вплывут в тиргартенские ливни,
В холодное Германии лицо.
И долго в Дюссельдорфе и Берлине
Их помнят скулы улиц и плацов.
Мне снится молодая эскадрилья
Над черной берхтесгаденской землей.
Зенитный вальс, фугасные кадрили,
Вампирский замок, рухнувший золой.
Настанет утро. Фюрер не проснется.
Зенитчик не поможет. На заре
Пилоты в первый раз поздравят солнце,
В последний раз направясь в лазарет.
Осень 1941
* * *
Ты ждешь меня, красивая, как прежде...
Читаешь Блока так, как я читал...
Рассвет сквозь штору нестерпимо брезжит,
Чужой патруль трамбует твой квартал.
А мы отходим по степям Кубани:
повозки, танки, пушки всех систем.
И шепчем воспаленными губами святой приказ 0227.
Настанет день – мы станем на Моздоке.
Наступит год – мы вырвемся на Днепр.
И выпью я без слова и без вздоха
его струю, тоску найдя на дне...
1942
* * *
Я буду убит под Одессой.
Вдруг волны меня отпоют.
А нет – за лиловой завесой
Ударят в два залпа салют...
На юге тоскует мама,
Отец мой наводит справки...
"Т-6", словно серый мамонт,
Развертывается на прахе
Вашего бедного сына...
Свидетельница – осина.
И пруд. И полоска заката –
(Она как просвет погона) –
России метр погонный,
Сержант, грузин языкатый.
И дождь. Он нахлынет с севера.
Брезент на орудья набросят.
Земля рассветет, как проседь.
Сержанты вскроют консервы.
Приказ принесут внезапно.
Полк выступит на заре.
Все раненые – в лазарет.
А мертвые смотрят на запад.
1943
Виноват, я ошибся местом:
Трудно все расчесть наперед.
Очевидно, под Бухарестом
Мне придется оскалить рот.
В остальном никаких ремарок,
Никаких "постскриптум" внизу.
Танк в оправе прицельных марок
Должен в мертвом темнеть глазу.
Умирать у левой станины
Нам Россиею суждено.
В двадцать лет вырывать седины
И румынское пить вино.
Но меня – раз мне жребий выпал
Хороните, как я солдат:
Куча щебня, и в ней, как вымпел,
Бронебойный горит снаряд!
1944. Ясское направление
ЭЛЕГИЯ
И мальчик, который когда-то видел себя Заратустрой,
Метил в Наполеоны и себялюбцем был,
Должен сейчас убедиться – как это ни было б грустно, –
Что он оказался слабее истории и судьбы.
Что мир перед ним открылся кипящим котлом военным,
Ворсистым сукном шинельным подмял его и облек.
Что он растворил ему сердце, как растворяют вены,
Что в эвкалипте Победы есть и его стебелек...
Микроскопически тонкий, теоретически сущий,
Отнюдь не напоминающий Ваграм и Аркольский мост.
И терпкость воспоминанья: румын батальон бегущий,
В зеленых горных беретах, – и тут же обвал в наркоз...
И тут же зеленые версты, как в цуге, бегут с санлетучкой.
Набухшие гноем гипсы... Идущий от сердца мат...
А эти всегда беспечны – небесные странники, тучки...
По крышам вагонов телячьих дождем посевным стучат.
1945
РЕКВИЕМ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВУ
Твоя годовщина, товарищ Степанов,
Отмечается в тишине.
Сегодня, небритый, от горя пьяный,
Лежу у моря, постлав шинель.
Все пьют тут просто – и я без тостов
Глотаю желтый коньяк в тоске,
Черчу госпитальной тяжелой тростью
«Сорокапятку» на песке.
Сейчас ударит сквозь репродуктор
«Вечною славою» Левитан.
Над черной феодосийской бухтой
Четыре дня висит туман.
На контуры воспоминаний вначале
Я нанесу Уральский хребет.
Не там ли «нулевкой» нас обкорнали,
По норме девятой сварили обед?
Не там ли морозим щеки на тактике,
Не там ли пристреливаем репера
И вместе сидим на «губе»? И так-таки
Утром однажды приходит: «Пора».
Свежей кирзой запахнет в каптерке.
Сорок курсантов, сорок мужчин
Погоны нацепят на гимнастерки –
Дорого стоящий первый чин...
И ты усмехнешься мне: «Ясно-понятно,
Фронт – не миниатюр-полигон».
Младшие новенькие лейтенанты,
Вместе влезаем в телячий вагон.
И он сотрясается той же песней,
Какой нас год донимал старшина.
Армянские анекдоты под Пензой
Сменяют дебаты про ордена.
Еще наши груди таких не знали.
Лишь Васька Цурюпа, балтийский бес,
Отвинчивает с гимнастерки «Знамя»,
Мелком и суконкой наводит блеск.
В артиллерийских отделах кадров
Растут анкетные холмы.
С пустой кобурою и чистой картой
В свои батареи приходим мы.
Мы наступаем Манштейну на пятки,
И педантичны, как «ундервуд»,
Щелкают наши «сорокапятки»,
Что «прощай Родина» в шутку зовут...
Тогда-то на эти координаты,
На этих юных, стойких орлят
Спускают приземистых «фердинандов» –
Надежду и копию фатерланд.
Самоуверенны, методичны –
Единый стиль и один резонанс –
Железная смертная мелодичность
С холмов накатывает на нас.
И понял я: все дорогие останки,
Родина, долг, офицерская честь –
Сошлись в этом сером тулове танка,
Пойманном на прицеле шесть...
–––––––
Неделю спустя, в бреду, в медсанбате,
Закованный в гипс, почти как в скафандр,
В припадке лирических отсебятин
Я требовал коньяку и «гаван».
И только в лазоревом лазарете
Прошу сестру присесть на кровать.
И начинаю подробности эти
Штабистским слогом ей диктовать.
О нет, никогда таким жалким и скудным
Еще не казался мне мой словарь.
Я помню: в эти слепые секунды
Я горько жалел, что я бездарь.
Но все-таки я дописал твоей маме,
Чей адрес меж карточек двух актрис
Нашел я в кровавом твоем кармане,
В памятке «Помни, артиллерист».
Но где-то, Валя, на белом свете,
Охрипши, оглохши, идут в поход
Младшие лейтенанты эти –
Тридцать восьмой курсантский взвод.
Россию стянули струпья курганов,
Европа гуляет в ночных кабаре –
Лежат лейтенанты, лежат капитаны
В ржавчине звездочек и кубарей...
Сидят писаря, слюнят конверты
(Цензура тактично не ставит штамп),
И треугольные вороны смерти
Слетаются на городской почтамт.
И почтальонши в заиндевелых,
В толстых варежках поскорей
Суют их в руки остолбенелых
И непрощающих матерей.
И матери рвут со стены иконы,
И горькую черную чарку пьют,
И бьют себя в чахлую грудь, и драконом
Ошеломленного Бога зовут.
Один заступник у их обиды –
Это «эрэсов»* литой огонь!
Богиня возмездия Немезида
Еще не сняла полевых погон...
1945–1947
* «Эрэс» – реактивный снаряд.
ИСКУССТВО
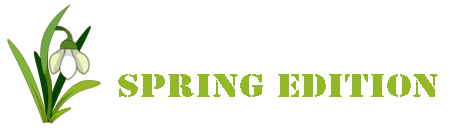





 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием