 Эрот под кипарисами
Эрот под кипарисами
Пьеса из жизни древних греков

От автора
Недавно я прочёл «Пир» Платона. Узнал много интересного. В диалоге «Пир» участники застолья по очереди произносят речи в честь Эрота — бога любви. Каждый из них раскрывает свою точку зрения на природу любви. Особенно примечательна речь Павсания, который говорит о двух Эротах: один — возвышенный, рожденный от Афродиты Небесной, другой — вульгарный, сын Афродиты Пошлой. Возвышенный Эрот связан с духовной, интеллектуальной любовью между мужчинами, стремящейся к добродетели и красоте души. Вульгарный же — с телесной страстью, направленной на женщин, и служит исключительно продолжению рода. Я знал и раньше, что в античном мире благосклонно относились к гомосексуальным связям. Я знал, что в элитных частях армий, часто служили пары любовников. И они воевали очень хорошо, потому что не хотели опозориться перед своими любимыми. А уж если один из них погибал, то другой за него мстил жестоко. Но речь Павсания о двух эротах меня удивила. То есть любовь между двумя мужчинами считается возвышенной, а между мужчиной и женщиной – пошлой? Любовь между двумя мужчинами ставится гораздо выше, чем любовь между мужчиной и женщиной. И вторая нужна только для продолжения рода.
И вот, под впечатлением прочитанного, я и написал эту пьесу.
Персонажи:
- Клеоник — бывший воин, ныне купец, живёт в Тавкидах, женат, отец троих детей.
- Филомед — странствующий философ и бывший воин, вернулся после долгих лет путешествий.
- Темисий – отшельник, философ
- Эрот – бог любви
Сцена I. Древняя Греция. Город Тавкиды. Улица близ агоры
Солнце склоняется к закату. На каменной мостовой, среди лавок и колонн, встречаются двое мужчин. Один — в дорожной хламиде, с пыльной сумой; другой — в чистом хитоне, с кожаным поясом. Они узнают друг друга и радостно восклицают.
Клеоник (восклицает):
О, Геракл и Афина! Неужели это ты, Филомед? Или глаза мои обмануты жаром дня?
Филомед (смеётся):
Если ты видишь перед собой пыльного странника с усталым лицом, но с сердцем, полным радости — значит, это я. Да, Клеоник, я вернулся в Тавкиды, как Одиссей в Итаку!
Клеоник (обнимает его):
Да будет благословен Гермес, покровитель путников! Иди же, друг мой, оставим улицу — в корчме «У трёх кувшинов» есть вино, достойное Диониса, и сыр, что не уступит беотийскому.
Они идут по улице, переговариваясь.
Филомед:
Сколько лет прошло, Клеоник? Семь? Восемь? Я видел земли, где люди молятся другим богам, где море пахнет иначе, где звёзды кажутся ближе.
Клеоник:
А я остался здесь. После войны с фессалийцами я сложил меч. Купил лавку, торгую тканями и маслом. Женился на Каллисте — ты её помнишь, дочь Евфрона? У нас трое детей: два сына и дочь.
Филомед:
Ты стал отцом, а я — странником. Но сердце моё всё ещё помнит наш отряд. Помнишь Мелантиона? Он погиб у перевала, когда мы шли на Ларису.
Клеоник (с грустью):
Да… А Ксанф — уехал в Коринф, открыл школу риторики. А Телемон — женился на вдове и теперь держит мастерскую по бронзе.
Они входят в корчму, садятся за стол. Хозяин приносит вино, хлеб, оливки.
Филомед:
Я был в Милете, на Родосе, даже в Египте. Видел пирамиды, слушал жрецов. Но нигде не нашёл такого хлеба, как в Тавкидах.
Клеоник (смеётся):
Потому что ты ел его с другом. А это, как сказал Симонид, — придаёт вкус даже простой воде.
Сцена II. Корчма «У трёх кувшинов». Вино льётся, вечер сгущается.
Клеоник и Филомед сидят за столом. На стенах — изображения Геракла, Ахилла и Патрокла. Вино в глиняных кубках, дым от жаровни тянется к потолку.
Клеоник (после паузы, понижая голос):
Есть вещь, друг мой, о которой я не говорил никому. Ни жене, ни братьям, ни даже жрецу Асклепия. Только тебе могу открыть душу — ибо ты знаешь, что такое честь в строю и мука в сердце.
Филомед (внимательно):
Говори, Клеоник. Я слушаю, как слушал бы Аполлон у источника Касталии.
Клеоник:
Мой второй сын, Евфемид, — прекрасный юноша, сильный, умный, с глазами, как у Персея. Он мечтает служить в священном отряде — в той самой части, где мужчины связаны узами любви, как Ахилл и Патрокл, как Гармодий и Аристогитон. Но… он не чувствует влечения к мужчинам. Совсем. Ни капли. И это… это позор! Как он будет принят? Как он будет служить? Что скажут другие?
Филомед (медленно):
Ты говоришь о позоре, но разве не учил Платон, что любовь — это стремление к добру через красоту? В «Пире» Паусаний говорит:
"Любовь, порождённая Уранией, не влечёт к телу, но к душе. Она ищет добродетели, а не наслаждения."
Клеоник (вздыхает):
Но ведь в отряде — это не просто добродетель. Это союз сердец. Это страсть, что делает воина яростным и верным. Без неё — он чужой среди своих.
Филомед:
А может, Евфемид — избран другим Эротом? Тем, кто ведёт к истине, а не к телу. Сократ говорил, что высшая любовь — это любовь к мудрости. Быть может, твой сын — не воин страсти, но воин духа.
Клеоник:
Ты говоришь красиво, Филомед. Но сердце отца не ищет философии — оно ищет покоя. Я боюсь за него. Боюсь, что он будет отвергнут, осмеян, одинок.
Филомед:
Тогда пусть он будет первым, кто докажет, что доблесть не требует страсти, а честь не зависит от желания. Быть может, он станет новым примером — не Ахиллом, но Периклом.
Клеоник (вздыхает):
Но Платон своём «Пире», устами Паусания, называет одного Эрота возвышенным, а другого – пошлым. И сын Пандемос, назван пошлым. Мой сын избран пошлым Эротом. Представляешь, каково мне? Ах, Филомед! Я пытался достучаться до сына. Знакомил его с хорошими мальчиками — умными, весёлыми. Они играли в мяч, беседовали о поэзии. Но как только кто-то пытался обнять его — он мягко отстранял руку и говорил: «Не надо. Мне это не хочется. Мне это неприятно.»
Филомед (внимательно):
А зрелые мужчины? Быть может, он ищет не игры, а мудрость?
Клеоник:
Нет. С ними он чувствует себя совсем неуютно. Один — Дамасипп, ты, возможно, знаешь его, зашёл, по мнению Евфемида, слишком далеко. И сын просто ударил его по руке. Мне потом пришлось извиняться.
Филомед (кивает):
Да, я знаю Дамасиппа. Человек достойный, но грубый. Неотёсанный, как статуя до прикосновения ваятеля. Он не умеет быть мягким. Эрос Урании не терпит резкости.
Клеоник:
Я боюсь, Филомед. Боюсь, что он будет чужим среди своих. Что его не примут в отряд. Что он будет один.
Филомед (тихо):
А может, он уже не один. Может, его союз — с разумом, с добродетелью, с тем Эросом, что ведёт к истине. Не всякая любовь — страсть. Не всякая доблесть — пламя. Быть может, твой сын — как Анаксагор, что любил звёзды больше людей.
Клеоник (раздосадованно):
Не звёзды. Только женщины. Только они. Я думал — пройдёт. Время покажет. Но нет. Он смотрит на девушек, как юный Парис на Елену. А на юношей — как на камни на дороге.
Филомед (осторожно):
Это бывает, Клеоник. Есть мужчины, которых не интересуют другие мужчины. Они женятся, растят детей, становятся прекрасными семьянинами. Это не порок, не болезнь.
Клеоник:
Да, я понимаю. Любовь к женщине тоже нужна. В конце концов мы должны продолжать свой род. Но разве можно сравнить любовь к какой-то женщине, с тем великим и возвышенным, что чувствует мужчина к своему другу! Ещё раз говорю: любовь к женщине просто необходима. Но также необходимы, например, мочеиспускание и дефекация. Но мы не ставим в честь них храмы и не слагаем гимны. Сын хочет служить! А ты знаешь, как смотрят на таких в отряде. Впрочем, его и не возьмут. А он мечтает о военной карьере, как я мечтал о лаврах на Пелопоннесе.
Филомед (после паузы):
А ты пробовал… ну, скажем, развесить по дому картины с изображением прекрасных юношей? Обнажённых, как Дионис на фреске в храме?
Клеоник (машет рукой):
И картины развешивали, и статуи стоят — Аполлон, Ганимед, Гермес. Ничего не помогает. А недавно нашёл у него под одеялом маленькую статуэтку обнажённой женщины. Спрятал, думал, я не найду.
Филомед (сдержанно):
Ну, а ты что ему сказал?
Клеоник:
Ничего. Что толку ругать? Думаю, в такой ситуации, это бесполезно.
Филомед:
А просто поговорить с ним?
Клеоник:
Сотни раз. Он говорит: «Папа, ну неинтересны мне мужчины. Не могу я полюбить мужчину. Только женщины меня волнуют.»
Филомед (вздыхает):
А врачи?
Клеоник (со смешанным раздражением и усталостью):
И к врачу водили. Старик Гиппократ из Пеллены, помнишь его? Назначил сыну диету из устриц, ванны с лепестками роз и ежедневные упражнения с гирями в виде юных торсов.
Филомед (смеётся):
И каков был результат?
Клеоник (горько усмехается):
Евфемид сказал, что устрицы склизкие, розы щекочут, а гири — неудобные. Сказал, что лучше бы я дал ему просто почитать Гесиода.
Филомед:
А жрецы? Может, жертвы богам?
Клеоник:
Пробовали. Не помогает. Даже к оракулу ходили — в храме Аполлона на склоне Таврийского холма. Он сказал:
"Тот, кто не ищет Эроса в зеркале, найдёт его в тени кипариса."
Филомед (смеётся):
Что это значит?
Клеоник:
Я подумал — может, надо отвезти сына в рощу кипарисов. Там устроил праздник, жертвы, даже нанял актёров, чтобы разыграли сцену любви Ахилла и Патрокла. А он сказал: «Папа, можно я пойду домой? Мне скучно.»
Филомед (с сочувствием):
О, Клеоник… ты сделал больше, чем любой отец. Но, быть может, твой сын — избран для другого пути. Не того, что ведёт через Эроса Урании, а того, что идёт по тропе Гестии — к дому, к семье, к женщине.
Клеоник (тихо):
А как же его мечта? Как же армия?
Филомед:
Может, он найдёт другой путь к доблести. Не мечом, но словом. Не в строю, но в совете. Быть может, он станет тем, кто изменит взгляды. Кто покажет, что доблесть не требует страсти, а честь — не зависит от влечения.
Сцена V. Корчма «У трёх кувшинов». Ночь. Тени пляшут на стенах.
Филомед (после долгой паузы):
Ты испробовал всё, Клеоник. И врачей, и жрецов, и оракулов, и даже театр под кипарисами. Быть может, остался один путь — странный, но иной.
Клеоник (устало):
Если ты скажешь — прыгнуть с утёса, я спрошу лишь, с какого.
Филомед (улыбаясь):
Нет, не утёс. Хижина. В лесу, за холмами, где растут дикие лавры. Там живёт отшельник — провидец, по имени Тимесий. Говорят, он был когда-то жрецом, но ушёл от людей. Грязный, вшивый, с глазами, как у совы. Может прогнать, может ударить палкой. Но иногда… его слова — как голос самой Мойры.
Клеоник (нахмурившись):
Я слышал о нём. Люди смеются. Говорят, он однажды предсказал, что у реки родится козёл с крыльями.
Филомед:
Да, и в тот год в Тавкидах появился философ Гиппомед из Эретрии по прозвищу «Козёл», который написал трактат о свободе духа. Между прочим, он приплыл по реке. Иногда смысл — не в букве, а в образе.
Клеоник:
Ты думаешь, стоит идти?
Филомед:
Я думаю, когда все пути исчерпаны, остаётся путь, что ведёт в чащу. Ты — отец. А отец должен идти туда, куда не ступает даже Эрос.
Клеоник (вздыхает):
Хорошо. Я пойду. Пусть смеются. Пусть называют меня безумцем. Но если в хижине Тимесия найдётся хоть крупица истины — я её возьму.
Сцена VI. У хижины Тимесия. Глухой лес. Сумерки.
Хижина стоит среди корней и мха, словно выросла из земли. Вокруг — тишина, нарушаемая только стрекотом цикад. Клеоник и Филомед приближаются, неся дары: хлеб, вино, сушёные фиги, кусок ткани. Тимесий сидит на камне, чешется, ворчит.
Тимесий (не глядя):
Что за духи тревожат мой покой? Или Аид открыл врата, и вы — его посланцы?
Филомед (мягко):
О мудрый Тимесий, мы пришли с дарами и просьбой. Прости, если нарушили твой уединённый час.
Тимесий (фыркает):
Дары? Ха! Хлеб — сухой, вино — кислятина, фиги — как камни. Ткань? Я ею только козу накрою. Вы мешаете мне думать. Я почти понял, почему лягушки квакают ночью, а вы — пришли.
(вскидывает голову, смотрит на них с прищуром)
Ладно. Рассказывайте. Но если мне станет скучно — я брошу в вас черепахой. И не думайте, что я шучу — она у меня под лавкой.
Клеоник: (смиренно):
Прости нас, старец. Мы пришли не ради праздности. Меня зовут Клеоник, а это мой друг Филомед. У меня беда. Сын мой… он …
Тимесий (перебивает):
Не ест козий сыр? Или, быть может, не кланяется Гестии перед сном? Ну, выкладывай, выкладывай, пока я не передумал и не ушёл разговаривать с деревьями — они, по крайней мере, не ноют.
Клеоник:
Не такой, как другие. Он не чувствует влечения к мужчинам. Ни к юным, ни к зрелым. Только женщины его волнуют. А он мечтает служить в элитном отряде, где любовь между мужчинами — не просто норма, а основа братства. Я боюсь, что его не примут. Что его мечта — невозможна.
Тимесий (театрально):
О, беда! Великая беда! Сын не хочет любить мужчин! Ужас! Афродита в слезах, Эрос в изгнании! Что дальше — кентавры станут вегетарианцами?
Филомед (спокойно):
Мы не просим чуда. Мы просим совета. Ты — последний, к кому мы можем обратиться.
Тимесий (ворчливо):
Вы пришли ко мне, чтобы я вылечил его от… чего? От того, что он любит женщин? Может, мне стоит призвать Панаса, чтобы он дунул в флейту и всё исправил?
(берёт фиги, нюхает их, снова чешется)
Ладно. Продолжайте. Но помните — черепаха всё ещё под лавкой.
Клеоник (сдержанно):
Мы пробовали многое. Я знакомил его с прекрасными юношами — умными, весёлыми. Он с ними играл, беседовал. Но как только кто-то пытался его обнять — он отстранялся. Говорил: «Мне это неприятно.»
Тимесий:
Какой ужас! Он не хочет, чтобы его лапали! Что за варварство! Где же мы живём — в Спарте или в пещере циклопа?
Клеоник (продолжает):
Я подумал — может, его влечёт зрелость. Представил ему Дамасиппа. Но когда тот, по мнению сына, перешёл границы дозволенного, сын ударил его по руке.
Тимесий (смеётся):
Дамасиппа? Того, что пахнет козьим жиром и цитирует Архилоха в бане? Ну, неудивительно, что мальчик его ударил. Я бы тоже.
Клеоник (вздыхает):
Мы даже… устроили представление. В роще кипарисов. Актёры разыграли сцену любви Ахилла и Патрокла. Жертвы, музыка, стихи. Я думал — может, сердце его отзовётся.
Тимесий (захлёбываясь от смеха):
Ахиллес под кипарисом! Ах, как трогательно! Надеюсь, ты не заставил его надеть хитон с золотыми кистями? Или, может, ты сам сыграл Патрокла?
Филомед (твёрдо):
Хватит, Тимесий. Мы пришли с открытым сердцем. Если ты не хочешь говорить — скажи прямо.
Тимесий (успокаиваясь, но всё ещё язвительно):
Ладно, ладно. Вы стойкие, как ослы на солнцепёке. Слушаю. Но если вы начнёте рассказывать, как приносили в жертву лепёшки в форме Эроса — я уйду в чащу и стану разговаривать с мухами.
Сцена VII. У хижины Тимесия. Ночь.
Тимесий встаёт, отряхивает свои лохмотья, чешется, затем вдруг резко машет рукой.
Тимесий:
Хватит. Довольно слов. Вы мне мешаете. Я должен… погрузиться в глубину внутреннего мрака, где шепчут корни и поют камни.
(пауза)
Когда духи закончат пляску, я вас позову. А пока ждите меня здесь! И не шумите, не дышите громко. Даже не думайте — мысли ваши гремят, как кузнечные молоты.
Клеоник и Филомед переглядываются, кланяются. Тимесий заходит в хижину. Дверь хижины с глухим стуком захлопывается.
Сцена VIII. Перед хижиной. Проходит время.
Ночь опустилась. Луна поднимается над лесом. Клеоник и Филомед сидят у костра, укутавшись в плащи.
Клеоник (ворчит):
Прошёл уже, должно быть, час. Или два. Может, он уснул? Или просто смеётся над нами из-за двери?
Филомед (вздыхает):
Может быть. Но если даже он и безумен — в безумии порой прячется истина. Разве не говорил Гераклит: «Путь вверх и путь вниз — один и тот же»?
Клеоник:
А может, он просто старый врун, который любит, когда ему приносят фиги и слушают его бред.
Филомед (улыбаясь):
И всё же ты здесь. Значит, надежда сильнее сомнений.
Пауза. Слышен шорох из хижины. Скрип двери. Тимесий выходит. Его глаза блестят, взгляд — безумен, волосы растрёпаны, на лице — пепел.
Тимесий (глухо):
Я видел. Я слышал. Я знаю.
Он подходит к ним, медленно, как жрец, и поднимает руку.
Тимесий:
Слушайте. И не перебивайте. Слова мои — не мои. Они — из глубины.
Тимесий стоит перед Клеоником и Филомедом. Луна освещает его лицо, глаза горят, голос звучит глухо, как из пещеры.
Тимесий (медленно, с паузами):
Я видел. Сквозь дым лавра и треск костей. Сквозь кору веков и пыль времён.
Настанет эпоха, когда Эрос Урании будет изгнан.
Мужчин, что любят мужчин, будут презирать.
Их назовут словами грубыми, как крик гарпии.
Их будут гнать, как бешеных псов.
Их будут сажать в темницы, как воров, хотя они не крали — лишь любили.
Он делает шаг вперёд, голос становится громче.
Тимесий:
Эрос Пандемос восторжествует.
Любовь к женщине станет единственной дозволенной.
И даже не любовь, а похоть, обёрнутая в ткань добродетели.
Союз душ — забудется.
Останется союз тел, и даже он — под надзором.
Он смотрит в небо, словно видит картины будущего.
Тимесий:
Я видел правителей, что в юности любили мужчин,
но в зрелости скрывали это, как проказу.
Один — построил законы, чтобы таких, как он, бросали в яму.
Другой — казнил поэтов, что пели о любви между юношами.
Третий — тайно держал возлюбленного, но публично называл его слугой.
Он опускает голову, голос становится тише.
Тимесий:
И всё это — будет.
И ничто не поможет.
Ни жертвы, ни фиги, ни театр под кипарисами.
Тимесий (смотрит на северо-восток, голос становится пророческим):
Особенно жестокие гонения придут из страны,
что возникнет к северу и востоку от Понта Эвксинского,
там, где ныне кочуют племена скифов,
где степь зовёт ветром, а железо — к власти.
Там построят стены не из камня, но из страха.
Там любовь между мужчинами будет проклята,
а слово, что её обозначает,
станет грубым, как удар плети,
и будет звучать, как древнее проклятие —
«пидОрас» —
словно имя чудовища,
хотя оно — лишь имя любви.
Он опускает голову, голос становится тише:
И будут смеяться, и будут гнать,
и будут говорить, что это — болезнь,
что это — позор,
что это — угроза.
Но Эрос — не боится ни плети, ни слова.
Он прячется в сердце, в строке, в взгляде.
Он ждёт.
И когда придёт время — он вернётся.
Снова.
Как весна после зимы.
Как песня, которую нельзя убить.
Тимесий (поворачивается к хижине. Уходя):
Вы просили ответ. Я дал.
Теперь — идите.
И не возвращайтесь.
Пусть ваш сын живёт, как велит ему его Эрос.
А вы — как велит вам терпение.
Сцена X. У хижины. Тишина после пророчества.
Тимесий исчезает в хижине. Клеоник и Филомед остаются одни. Лес молчит.
Клеоник (тихо):
Он не дал нам ответа. Только тень будущего.
Филомед:
Иногда тень — это всё, что можно унести с собой.
Клеоник:
Я хотел изменить сына. А теперь… я должен изменить себя.
Филомед:
И, быть может, однажды — все Тавкиды… Всю Элладу.
Они уходят вглубь леса, не говоря больше ни слова.
Сцена XI. Эпилог. На сцене — Эрос.
На сцену крадучись и воровато оглядываясь по сторонам выходит Эрос. Он юн, но древен. Его хитон — в пятнах, крылья — чуть потрёпаны. Он достаёт из колчана стрелу, целится в зал, долго смотрит, будто выбирает — разум или сердце. Но, передумав, убирает стрелу обратно в колчан. Смотрит в зал с лёгкой улыбкой — как будто знает, что его время ещё придёт. И так же крадучись уходит.
Занавес.
На смёпках с 1 Израильской
Хочу переделать мир. Кто со мной?
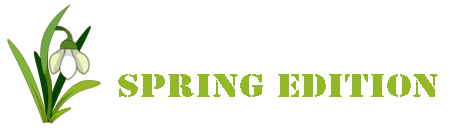







 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием