До Нового Года написать не успею. А хочется похвастаться. Размещаю начало рассказа. Текст нешлифованный. Ещё буду много раз править. Дураку полработы не показывают. Но дураков среди вас нет. Просто прошу отнестись с пониманием, что текст не шлифован. А за конкретные замечания буду благодарен.
Ляля
Я закрыл дверь, и будто отрезал себя от всего, что было снаружи. Холод, ветер, мокрые ботинки — всё осталось там, за порогом. В квартире было тепло, даже слишком — батареи гудели, воздух пах чем-то домашним, спокойным. Я снял куртку, она хлюпнула, как тряпка, и повесил её на крючок. Шарф — мокрый, тяжёлый. Джинсы — липкие, как будто прилипли к ногам. Всё это — доказательства моего короткого, но неприятного похода в магазин.
Я прошёл на кухню, включил свет. Тёплый, жёлтый, мягкий. Пакет с продуктами поставил на стол, но разбирать не стал. Сейчас — не время. Сейчас — время согреться. Я включил электрокамин, налил себе горячего чаю, прихватил медовые коврижки, взял плед, сел на диван. Тело постепенно оттаивало, как будто я возвращался к себе. За окном всё ещё бушевал ветер, в стекло стучал дождь, но мне было всё равно. Я был дома. Я был в безопасности.
И самое главное — мне больше не нужно туда. Не сегодня. Не сейчас. Не в эту мерзость. Я могу просто быть. В тепле. В тишине. В покое.
Я только устроился поудобнее, плед уже начал греть, чай — обжигать губы, как вдруг зазвонил телефон. Резкий звук, как будто кто-то вломился в мой уют. Я вздохнул, нехотя потянулся к трубке.
— Алло?
На том конце — всхлипы. Женский голос, дрожащий, будто на грани.
— Это я… Ляля.
Вот это да. Я бы меньше удивился, если бы мне позвонил президент. Любой. Российский, американский. Или даже сатана. А тут — Ляля.
Я сел ровно, плед сполз на пол.
— Ляля?!
— Я… я влипла, — сказала Ляля, и голос у неё дрогнул, — Ты только выслушай, ладно?
Я молчал. Она вдохнула, всхлипнула и начала говорить быстро, сбивчиво, будто боялась, что не успеет.
— Я познакомилась с мужчиной… в Интернете. Мы сначала просто переписывались. Он такой… внимательный, понимаешь? Слова подбирал, будто знал, что мне нужно услышать. Писал по ночам, спрашивал, как прошёл день. Потом начали созваниваться. Голос у него… мягкий, спокойный. Я… я поверила.
Она снова всхлипнула, но продолжила.
— Он позвал меня в Питер. Говорил, что хочет увидеть меня, что мы идеально подходим друг другу. А я сказала, что у меня с деньгами… ну, понимаешь. Он сказал: «Не переживай. Купи билет в один конец, я тебе всё верну. Даже деньги с собой не бери — я встречу, отвезу, всё будет чудесно». Он так уверенно это говорил… так тепло.
Я уже знал, куда всё идёт, но слушал дальше.
— И я… купила билет. Прилетела. Вышла из самолёта, достала телефон — а он… он меня заблокировал. Везде. Телефон, мессенджеры, соцсети. Всё. Просто исчез. Я сижу сейчас в аэропорту… с чемоданом… и у меня нет ни копейки.
Она замолчала. Только дыхание — короткое, рваное.
А я сидел в своём тёплом, уютном доме, с пледом, с остывающим чаем — и чувствовал, как этот уют трескается, как холод с улицы снова пробирается внутрь, хотя дверь закрыта. Сколько же мы не общались… Шестнадцать лет.
Я слушал Лялю, а в голове всплывало прошлое — то самое, шестнадцатилетней давности.
Я работал в одной фирме, головной офис — в Питере, а одно из наших предприятий — в Барятине. Да, именно там. Если кто-то сейчас спросит, где это, я только усмехнусь: «А вот попробуй найди на карте».
Барятин… захолустный городишко, если честно. Не злорадно говорю — просто факт. Пара улиц, пара магазинов, один унылый парк, который выглядел одинаково в любое время года. Зимой — серый, весной — серый с лужами, летом — серый с пылью, осенью — серый с листьями. И всё.
Я туда ездил в командировки по двадцать, по тридцать дней. Двести три раза в год, а то и больше — так казалось. Иногда я думал, что провожу в Барятине больше времени, чем дома. Там было скучно до прозрачности. Делать нечего. День на работе, а вечерами я ходил по одному и тому же маршруту: гостиница — магазин — гостиница. В магазине продавщица уже здоровалась со мной как с родственником. В гостинице телевизор ловил три канала, и два из них показывали одно и то же.
Интернет тогда был… ну, скажем так, терпимый. И вот в этой тягучей, вязкой скуке, когда дни сливались в один длинный серый коридор, я и познакомился с Лялей. Она была как вспышка — яркая, неожиданная. С ней можно было говорить обо всём, и время переставало тянуться. Я помню, как сидел в той гостинице, за столом, который шатался от любого движения, и печатал ей сообщения. И впервые за много дней мне было не скучно.
Мы познакомились тогда почти случайно… хотя, если честно, я ведь прицельно искал. Не «женщину мечты», не «любовь всей жизни» — а просто кого‑то, кто живёт в Барятине. Хотелось человеческого голоса рядом, когда сидишь в командировке в этом унылом городке, где после шести вечера жизнь выключают, как свет в коридоре. Да, ладно! Хотелось женской ласки, как и любому нормальному мужику.
Я листал анкеты, форумы, какие‑то местные группы. И вдруг — Ляля. Имя лёгкое, как звон стекла. Фотография — тёплая, живая. Улыбка такая, что даже тусклый гостиничный монитор казался ярче. Я написал ей первое сообщение без особых надежд. Она ответила через пять минут. Так всё и началось.
Первая встреча… я помню её до мелочей. Она пришла на остановку, где мы договорились встретиться. На ней было простое пальто, волосы собраны, но несколько прядей выбились и падали на лицо. Она смеялась, ещё не успев подойти. И я подумал: «Вот же… будто солнце в этом сером Барятине». Она была не красавицей с обложки — но в ней было что‑то такое, что сразу притягивало. Живость. Тепло. Настоящесть.
Она привела меня знакомиться с семьёй почти сразу — не как «жениха», а просто как человека, который ей понравился. Сын — пацан лет десяти, любопытный, с хитрым взглядом. Мать — строгая, но добрая, с тем типом хозяйственности, который чувствуется по запаху пирогов в доме. У них была небольшая квартира — чистая, уютная, с ковром на стене и старым сервизом в шкафу. Дом, где живут по‑простому, но по‑человечески.
Ляля работала тогда в местной конторе — бухгалтером. Ничего особенного, но она относилась к работе серьёзно, как ко всему.
И да — это не была любовь. Не та, что с пафосом, с клятвами, с вечностью. Но и не грязная одноразовая история. Это была дружба. Большая, тёплая, честная. Дружба, в которой было место и смеху, и разговорам до ночи, и телу. Мы не требовали друг от друга верности. Просто оба понимали: никто не станет ждать месяцами между моими командировками. И это не разрушало нас. Наоборот — делало честнее.
Я знал о её ухажёрах. Даже пару раз видел их — нормальные мужики, ничего плохого. Она знала о моих женщинах. И не ревновала. Мы не были собственниками. Мы были… как два человека, которые нашли друг в друге островок спокойствия.
И вот теперь она звонит мне из питерского аэропорта, плачет, говорит, что влипла. И я чувствую, как прошлое, которое казалось давно закрытой дверью, вдруг снова распахивается.
Я вспомнил, как однажды помогал Ляле переезжать. Она тогда решила сэкономить на грузчиках — сказала, что «не барыня», и что мы «и сами справимся». Я, конечно, знал, что это значит: я, её брат и гора вещей, которые почему‑то всегда оказываются тяжелее, чем выглядят.
Мы таскали шкафы, коробки, какие‑то бесконечные сумки. Брат Ляли был парень крепкий, но ворчал всё время, будто это он один переезжает. Я смеялся, потому что ворчал он добродушно, без злости. Мы вдвоём тащили старый диван, который, кажется, был сделан из чугуна. На лестничной клетке он застрял, и мы минут десять пытались повернуть его так, чтобы не снести стену. В итоге мы всё‑таки протиснули его, и брат сказал: «Ну всё, теперь мы обязаны выпить за это». Я тогда подумал, что он прав.
Ляля, её сын и мать таскали мелкие вещи — кастрюли, подушки, пакеты с одеждой. Они сновали туда‑сюда, как муравьи, и всё это выглядело удивительно организованно. Мать Ляли командовала процессом, сын бегал с видом важного человека, который выполняет сверхсекретное задание. Ляля смеялась, поправляла выбившиеся волосы и всё время говорила: «Осторожно там, не уроните! Это нужное!»
И, странное дело, несмотря на усталость, было весело. Такое редкое чувство — когда все заняты делом, никто не ругается, и даже тяжёлые коробки кажутся частью какого‑то общего приключения. Мы потом сидели на полу новой квартиры, среди коробок, пили чай из одноразовых стаканчиков и чувствовали себя победителями.
---
Был вечер, когда в Барятине отключили свет. Просто взяли и вырубили весь район — зима, темнота, тишина такая, что слышно, как дом скрипит. Я сидел в гостинице, думал, и вдруг Ляля позвонила:
«Иди к нам! У нас свечи есть».
Я пришёл — и попал в какой‑то маленький островок тепла. На столе — свечи в банках из‑под варенья, на плите — чайник, который она грела на газу. Сын сидел под одеялом и рассказывал страшилки, мать ворчала, что «опять всё на нас свалилось», но глаза у неё смеялись. Мы сидели, пили чай, ели печенье, которое Ляля зачем‑то всегда держала «на всякий случай». И было так уютно, что я потом ещё долго вспоминал тот вечер — как будто мы все вместе спрятались от мира.
Был день, когда она решила научить меня печь блины. Я сказал, что у меня руки не из того места, но она только фыркнула: «Ничего, поставим на место». В итоге половина теста оказалась на плите, один блин улетел на пол, а один — на потолок. Мы смеялись так, что соседи стучали по батарее. Но два блина всё‑таки получились — и она сказала: «Вот видишь, ты способен на подвиги».
Я тогда подумал, что ради таких вечеров можно терпеть и Барятин, и командировки, и всё остальное.
Был случай, когда она позвала меня «просто пройтись». Мы шли по городу, который я уже знал наизусть, но с ней он казался другим. Она показывала мне какие‑то мелочи: старый дом, где она в детстве играла; лавочку, на которой когда‑то сидела с подругами; магазин, где «самые вкусные пирожки, но только по четвергам». И я ловил себя на мысли, что слушаю её не потому, что интересно — а потому, что её голос делает мир теплее.
И ещё — тот вечер, когда она принесла мне в гостиницу суп. Просто так. Я заболел, лежал пластом, и вдруг в дверь постучали. Она стояла с кастрюлей, в шарфе, с красным носом от мороза. «Ты же ничего не ел», — сказала она. И поставила суп на стол, как будто это самое естественное дело на свете.
Я ел, а она сидела рядом, болтала о чём‑то смешном, и мне казалось, что болезнь отступает просто от её присутствия.
Такие моменты не становятся легендами. Они тихие. Но именно они и делают человека дорогим.
Если хочешь, можем продолжить — как эти воспоминания накатывают на героя сейчас, когда Ляля плачет в трубку из питерского аэропорта.
Я вспомнил, как Ляля прилетала в Питер. Это всегда было событием — не потому, что мы строили какие‑то планы на будущее, а потому что с ней город становился другим. Живым. Мягким. Даже если на улице был февраль.
Я встречал её в аэропорту, и она всегда выходила с тем самым своим выражением — смесь удивления, радости и лёгкой растерянности. Как будто Питер каждый раз ошеломлял её заново. Мы садились в машину, болтали без умолку, и уже по дороге начиналось наше маленькое приключение.
Мы гуляли по Невскому, как туристы, хотя я знал его наизусть. Она всё время останавливалась: «Смотри, какая красота!» — и показывала на дом, который я проходил сотни раз, не замечая. С ней я видел город иначе. Мы заходили в Казанский, просто постоять в тишине. Потом шли вдоль канала, слушали уличных музыкантов, покупали горячий кофе в бумажных стаканчиках, который неизменно обжигал пальцы.
Она любила музеи. Эрмитаж мы обходили не весь — это невозможно, — но у неё была привычка выбирать одну‑две залы и рассматривать всё так внимательно, будто от этого зависела её жизнь. Я смотрел на картины, а потом на неё — и думал, что она сама по себе куда интереснее любого экспоната.
Мы заходили в маленькие рестораны, те, что спрятаны во дворах. Она всегда выбирала что‑то новое, экспериментировала, смеялась, если блюдо оказывалось странным. Я же брал привычное — и она поддразнивала меня за это. В одном кафе она впервые попробовала устрицу, поморщилась, сказала: «Фу, как будто море мне в лицо плюнуло», — и мы смеялись так, что официант тоже улыбался.
Вечерами мы просто шли по набережной. Питерские вечера — это отдельная магия. Фонари отражаются в воде, ветер с Невы холодный, но не злой. Она прижималась ко мне, чтобы согреться, и говорила: «Вот бы так всегда». Не как мечту о совместной жизни — нет. Просто как момент, который хочется продлить.
Иногда мы возвращались домой поздно, промёрзшие, но счастливые. Она снимала шапку, встряхивала волосы и говорила: «Ну всё, я устала быть культурным человеком». И мы смеялись, как дети.
Это были хорошие дни. Простые. Настоящие. Такие, что вспоминаются потом годами — не потому, что что‑то грандиозное произошло, а потому что рядом был человек, с которым мир становился мягче.
---
— Я такая дура… — выдохнула Ляля, и голос у неё сорвался. — Ну кто так делает? Кто летит к человеку, которого ни разу не видел? Господи… как я могла?
Она всхлипнула, потом ещё раз, уже громче.
— У меня нет денег даже на гостиницу. Вообще. Ни рубля. Я сижу тут, как… как последняя идиотка. С чемоданом, как бомж. Люди ходят мимо, смотрят… а я не знаю, что делать.
Я слушал. Молчал. Чай на столе остыл, плед сполз на пол, но я не двигался.
— А ведь всё было так красиво, — продолжала она. — Ты бы слышал, как он говорил. Как писал. Как будто… как будто мы знали друг друга всю жизнь. Он такой внимательный был, такой нежный. Я думала… ну… что это судьба, что ли. Что вот… бывает же. Бывает же, что встречаешь человека — и всё складывается.
Она нервно засмеялась — коротко, горько.
— А я поверила. Как дура. Он же мне говорил: «Прилетай, я всё устрою. Я тебя встречу. Ты только прилети!». А я… я взяла и прилетела. И вот теперь сижу тут. Одна. Без денег. Без… без всего.
Она снова заплакала. Уже не сдерживаясь.
— Я не знаю, что делать. Не знаю, куда идти. Я… я просто влипла. Понимаешь? Влипла по‑дурацки, по‑детски. И мне так стыдно. Так страшно.
Я всё ещё молчал. Слушал её дыхание, её всхлипы, её отчаяние. И чувствовал, как внутри поднимается что‑то тяжёлое, старое, забытое — то самое, что связывало нас когда‑то, шестнадцать лет назад.
Но я пока не сказал ни слова.
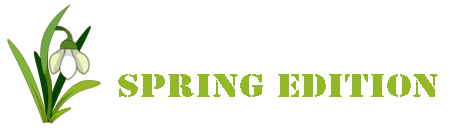









 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием




